Это текст речи Джеймса Хиллмана, произнесенной в 1977 году на Седьмом Всемирном Конгрессе Аналитической Психологии в Риме. Впервые был опубликован в Methods of Treatment in Analytical Psychology, ed. I.F. Baker (Fellbach: Adolf Bonz Verlag, 1980), 118-26. Текст взят из Alchemical Psychology: Uniform Edition of the Writings of James Hillman, Vol. 5 (Spring Publications).
Для аналитической психологии алхимическая работа Юнга обладает двойной ценностью. Я же собираюсь говорить о третьей стороне её ценности.
Одна из сторон её ценности была прекрасно продемонстрирована Дэвидом Холтом в его лекции “Юнг и Маркс” , в которой Холт говорил о том, что Юнг считал алхимию теоретическим и практическим основанием его собственной работы и что большую часть своей зрелой жизни он посвятил разработке, по его словам, “алхимической основы глубинной психологии” , собственно, опуса психологической трансформации. Холт подчеркивает, что для того, чтобы обрести верное представление о всём проекте Юнга, необходимо обратиться к алхимии. Алхимия нам нужна для того, чтобы понять нашу теорию.
Другая же была ясно представлена в книге Роберта Гриннела “Алхимия в современной женщине”, в которой Гриннел указывает на бесспорное сходство между психическими процессами современной итальянской пациентки и теми процессами, которые имеют место в алхимическом опусе. Там, где Холт говорит об алхимической теории как основе, Гриннел говорит об алхимической феноменологии как практике. У Гриннела мы находим преемственность или архетипичность алхимических тем в описанном им случае. И, таким образом, чтобы работать с психикой на её наиболее фундаментальных уровнях, нам необходимо воображать её подобно тому, как это делали алхимики, поскольку и они, и мы имеем дело со схожими процессами, репрезентирующими себя в похожей образности.
Алхимия нам нужна для того, чтобы понимать своих пациентов. Я же буду говорить о ещё одном важном и ценном аспекте алхимии в нашей практике, который имеет отношение к языку. Вкратце, я буду говорить о том, что, несмотря на общую теорию алхимической трансформации и даже несмотря на определенное сходство алхимической образности и процесса индивидуации, в юнгианской терапии именно алхимический язык, вероятно, обладает наибольшей ценностью.
Алхимический язык — это режим терапии, сам по себе являющийся целительным.
Прежде чем говорить о терапии, нам следует поговорить о неврозе, и в этом я буду следовать общему юнговскому определению невроза как “одностороннего развития личности” (CW 16:227), которое я понимаю, как неизбежное одностороннее развитие сознания как такового. По моему мнению, Юнг говорит о том, что невроз заключается в укладе нашей сознательной личностной организации, в том привычном образе жизни, которому мы следуем. Что бы мы ни делали здесь — это требует вытеснения где-то в другом месте: я так поступаю, потому что я вытесняю, или же я вытесняю, поскольку поступаю таким образом. Юнг говорил об этом так: “Односторонность есть неизбежная и необходимая характерная черта направленного процесса, поскольку направленность сама по себе предполагает однобокость”. (CW 8:138 / Структура и динамика психического, стр. 87). Невроз может быть когнитивным, волевым или же аффективным, интровертным или экстравертным, поскольку мы можем быть односторонними в любом аспекте личности.
Юнг предлагает нам удивительно ограниченную идею невроза, придерживаясь в ней того, что некоторые назвали бы “эго-психологией”. Я не могу и не смог бы охарактеризовать её такой по ряду причин, к которым мы вернёмся позже. По крайней мере, эта идея Юнга предотвратила различные сложные объяснения невроза посредством социально адаптивных процессов, историцизма развития, интропсихической динамики, механизмов биологической обратной связи и прочих бессмыслиц. Невроз располагается в структуре нашего сознания (CW 16:12 / Принципы практической психотерапии). Я невротичен не из-за того, что происходило лишь однажды, или же происходит в обществе, в моих сновидениях, фантазиях, эмоциях, воспоминаниях и симптомах, но из-за того, что происходит здесь и сейчас, когда я здесь стою, смотрю на вас и говорю. Мой невроз находится в самом складе моего ума, в том, каким образом он конструирует мир и как себя в нём ведёт
Итак, сутью или же существенным элементом любого склада ума, любой личности, является язык.
И поэтому язык может быть сутью моего невроза. Если я невротик, то я невротичен также и в языке. Следовательно, эту характерную для невроза в общем односторонность можно обнаружить, в частности, и как односторонность языка.
Одного важного следствия, вытекающего из этого, я могу коснуться лишь вскользь. Для того, чтобы обнаружить специфику любого невроза, мне вначале следует изучить специфику свойственного ему языка, те стили речи, в которых он был сформирован. Юнг с его экспериментами по словесным ассоциациям начинал идти по этому пути, семантический дифференциал Чарльза Осгуда и психология личностных конструктов Джорджа Келли могут предложить нам дополнительные пояснения и применение этому.
Нам еще многое предстоит узнать о риторике невроза. Мы, психологи, прислушиваемся не только к тому, о чём идёт речь, тону или же своду речи, но и к её стилю.
Архетипическая психология уже начала исследовать язык, особенно риторические стили речей, произнесенных при смерти, речей из описаний сновидений или же письменных текстов и слов как таковых. Но сегодня речь пойдёт не об этом.
Основной вывод из нашего предположения о том, что односторонность невроза существенно связана с односторонностью языка, приводит нас непосредственно к цели данного вступления. Чтобы быстрее достичь этой цели, позвольте мне прояснить ситуацию в три прыжка. Прыжок первый: поскольку язык — это явление, в основном, общественное, тогда и односторонность моего языка отражает также и коллективный язык общества. Прыжок второй: Юнг уже определял коллективный язык как язык “направленный” (“протекающий в известном направлении”, “направленное мышление” [CW 5, ch. 2 / Символы и трансформация либидо, глава 2, стр. 55-57]), что я уже несколько раз критиковал как “номинализм”, “рационализм”, “психологический язык”, “аполлоническое сознание”, “концепции дневного мира”. И, наконец, третий: концептуальный язык, будучи языком номиналистическим, то есть отвергающим значение и веру в собственные слова, является распространенным риторическим стилем “эго”, особенно “эго” психолога, и является хроническим локусом нашего коллективного невроза в том виде, каким он предстаёт в языке.
Таким образом, подобно Фрейду и Юнгу, я также утверждаю, что односторонность — это невроз всей западной культуры. Но при этом я располагаю его внутри нашего протекающего в одном направлении языка, языка, направленного изнутри (кто же или что, в конце концов, направляет наше направленное мышление?), посредством присущих ему синтаксических, грамматических и концептуальных структурам, приводящих в итоге к концептуальному рационализму. Horribile dictu, невроз укрепляется тем академическим обучением, которое мы должны пройти, прежде чем стать представителями психотерапевтической профессии. Под словами “концептуальный рационализм” я подразумеваю тексты, подобные этому, которые объясняют явления скорее с помощью слов-концептов, нежели чем с помощью слов-вещей, слов-образов, слов-умений, а также я подразумеваю и наше повседневное использование глаголов тождества (как, например, “является”), которые бессознательно подкрепляют те слова, которые сознательно мы считаем только лишь условными. Таким образом, мы принимаем наши гипотезы за нечто реальное. И происходит раскол между теорией и практикой — даже теоретические заблуждения о практике. Подобно Юнгу, мы замечаем, что наши концептуальные утверждения носят не более чем условный характер, но из-за языка на практике мы не можем избежать овеществления того, что в теории представляется исключительно условным, лишь гипотетическим. Мы оказались в ловушке буквализма нашего собственного языка.
Мы говорим концепциями: эго и бессознательное; либидо, энергия и влечение; противоположности, регрессия, чувствующая функция, компенсация, перенос. Работая с этими понятиями, мы странным образом забываем о том, что это лишь концепции, едва ли подходящие для понимания психических явлений, неадекватным описанием которых они и являются. Более того, мы забываем также и о том, что эти концепции отягощают нашу работу, поскольку к нам они поступают, уже будучи нагруженными собственной бессознательной историей.
И потому психологические концепции, по словам Юнга, являются не только “теоретически неприменимыми”, но, как он также утверждал, психологу следует “избавиться от распространенного обыденного заблуждения, будто имя само по себе объясняет психический факт, скрытый за ним” (CW 8:223-25 / Структура и динамика психического, стр. 129). Но все равно мы, психологи, воображаем, будто эти слова-концепты и есть слова-вещи, и потому Юнг продолжает: “психология … всё еще обладает … менталитетом, когда никакого различия между словами и вещами не делается”. О каком менталитете, какой болезни идёт речь?
Не говорит ли Юнг о буквализме, той односторонности ума, которая имеет дело лишь с прямотой языка? В таком сознании не существует никаких “как будто бы” между словом и чем-то, что оно представляет. И тогда субъекты наших утверждений становятся существующими субъектами, а объекты — объективными реальными фактами. А такие концепты, как эго, бессознательное, чувствующая функция и перенос становятся буквально реальными вещами. То есть существительные начинают существовать, причём настолько, что мы считаем эти концепты способными объяснить личность и её невроз, тогда как я утверждаю, что сами эти овеществленные концепты — бессознательное, эго, перенос — сами и являются неврозом.
Подобно Фрейду, который начинал с дебуквализации воспоминаний о сексуальной травме как фантазий о ней, и подобно Юнгу, который начинал с дебуквализации инцеста и либидо, нам также следует заняться дебуквализацией ряда других овеществленных понятий, начиная с “эго” и заканчивая “бессознательным”. Я никогда не сталкивался ни с одним из них, кроме как в книгах по психологии.
Приобщитесь к алхимии с её словами-вещами, словами-образами, словами-умениями. Все пять предполагаемых источников алхимии являются технологиями, тяжким трудом над вполне ощутимыми материалами:
- Металлургия и ювелирное дело: добыча руды, накаливание и выплавка руды, ковка и закаливание металла;
- Окраска одежд и тканей: замачивание, покраска и высушивание;
- Бальзамирование умерших: расчленение, очищение, вымачивание, консервация;
- Парфюмерия и косметика: измельчение, смешивание, дистилляция, разбавление, выпаривание;
- Фармацевтика: отбор, настаивание, дозировка, растворение, обезвоживание, распыление.
К этим уже признанным её источникам следует добавить также приготовление и консервацию пищи, эту ежедневную деятельность по преобразованию сырых материалов во вкусную и питательную еду.
Тот разум, который не разделял концептуальные значения и метафорический подтекст, видел, что любой ручной и чувственный труд был наполнен значением, связанным с природой, жизнью, смертью и душой. Кузнец должен был уметь поддерживать огонь и регулировать температуру. Фармацевт же был обязан уметь смешивать всё в правильных пропорциях, иначе бы его лекарство убило вместо того, что исцелить. (Само слово pharmakon означает одновременно как яд, так и лекарство).
Сырьё личности: соль, сера, ртуть и свинец — всё это конкретные вещества.
Алхимические описания души, такие как aqua pinguis (“жирная вода”) или aqua ardens (“горящая вода”), а также те слова, которые использовались для описания её состояний, как например nigredo или rubedo, воплощали в себе явления, которые можно было ощутить и увидеть. Работа по созиданию души требует агрессивных кислот, тяжелой земли и взмывающей вверх птицы, она включает в себя также короля, который бледен и дрожит, собак и шлюх, смрад, мочу и кровь. Настолько же, насколько всё это близко к языку наших сновидений, настолько же оно отличается от того языка, к которому мы обращаемся при их интерпретации. Когда алхимия говорит о температуре нагревания, то никогда не пользуется числами для её определения, скорее, она обращается к теплу конского навоза, или же песка, или же теплу соприкасающегося с огнём металла. И все эти виды тепла отличаются друг от друга не только степенью, но и качеством, поскольку тепло может быть как мягким и неспешным, так и тяжёлым, и влажным, или же внезапным и резким. Тепло конского навоза также сообщает нагреваемому материалу качества конского навоза. Тепло не раздельно с тем телом, которое его даёт.
Названия алхимических сосудов (тех форм души, в которых обрабатывается наша личность) разительно отличаются от тех понятий, которыми пользуемся мы внутреннее пространство или внутренний объект, или фантазия, или терпеливость, контейнирование, подавление или отношения. Алхимия предлагает нам ряд сосудов, обладающих различными качествами и различной хрупкостью, разными формами или же видимостью: охлаждающие змеевики, многодувные дистилляторы, пеликаны, реторты и открытые чаны. Для хранения и приготовления своего сырья используют медь, или стекло, или глину.
Наконец, слова, обозначающие операции, которые мы совершаем для созидания психики, опять же, конкретны. Мы учимся испарять туманность, прокаливать, то есть сжигать наши страсти до сухого остатка. Мы изучаем конденсацию и сгущение туманных описаний, чтобы выдавить из них несколько тяжелых и свежих капель. Мы изучаем коагуляцию и фиксацию, растворение и гниение, омертвение и почернение.
Сравните эти технологические слова алхимии с теми, которыми мы пользуемся для описания процессов в психотерапии: анализ переноса, обслуживающая эго регрессия, развитие внутренней функции, управление гневом, синтонная идентификация, демонстрация враждебности, а также улучшение, отрицание, сопротивление, идентификация… Мало того, что это языковые абстракции, они еще и неточны. Из-за этой неточности нашего оснащения, наших концепций, с помощью которых мы пытаемся уловить движения души, нам также приходится признать и саму душу чем-то неуловимым, тогда как в действительности она всегда проявляет себя в очень конкретном поведении, конкретном опыте и конкретных чувственных образах.
Прежде чем алхимия коснулась мысли Юнга, у него были сомнения в отношении того чувственного языка, которым алхимия так наслаждается. В 1921 году в “Психологических типах” он пишет:
Рациональные функции по природе своей неспособны создавать символы, ибо продукты их деятельности только рациональны и определены в одном только смысле; они не включают в себя одновременно и другого, противоположного им. Точно так же и функции чувственности неспособны создавать символы, потому что и они односторонне определены объектом и заключают в себе лишь себя самих, а не другое.
Я считаю, что тут он говорит о том, что чувственное восприятие столь же одностороннее, как и концептуальное понимание, особенно учитывая то, что оно цепляется за свои объекты (конкретные материалы и процессы алхимии), из-за чего любые дальнейшие коннотации оказываются невозможны. Я думаю, что тут Юнг путает конкретное и буквальное.
Алхимия увела Юнга от систематического рационализма “Психологических типов”. И теперь мы можем понять, вслед за Холтом, насколько нужна была алхимия для обеспечения фундамента его глубинной психологии, поскольку она полностью порывает с односторонним буквализмом. Ни одно понятие не означает строго что-то одно. Любой алхимический феномен означает одновременно и нечто психологическое, и нечто материальное, иначе бы она не могла утверждать себя искуплением и человеческой души, и материальной природы. Всё — метафора (или же всё “символично”, в том понимании этого слова, которое соответствовало Юнгу 1921 года). Всё — подобие. Всё — поэзис руки.
Наши умы всё ещё сохраняют это стремление алхимии к переносу технологии в психологию. Психологический сленг предаёт всё то, что было свойственно нашему воображению ещё до того, как наша профессия пришла к таким сложным понятиям. Язык ручного труда, язык технических решений, теперь рождается в автомастерских. Там, в гаражах, нас ожидает изобилие метафор нашей психической жизни: переустановка, наладка, регулировка тормозов, заправиться горючим, не глохнуть, никогда не давать осечку с зажиганием, никогда не садиться (прим. пер. речь об аккумуляторе).
С тех пор, как Юнг открыл психологам дверь в алхимию, мы пользовались ею лишь в одностороннем порядке — мы обращались с её образным мышлением посредством нашего направленного мышления и переводили её образы в наши понятия. Белая Королева и Красный Король стали феминным и маскулинным принципами, соответственно; их инцестуозная сексуальная связь стала объединением противоположностей; причудливый гермафродит и одноногий, эта фигура с золотым лицом и серебряными волосами, красная внутри и черная снаружи — всё это превратилось в парадоксальные репрезентации цели, стало андрогинными символами Самости. И даже необычные изображения из Rosarium Philosophorum, требующие задумчивого созерцания, вместо этого служат наглядным пособием по психологии переноса.
Через эту дверь мы можем пройти и иначе. Мы можем заняться противоположным переводом — приведением фактов нашей практики и используемого нами для их понимания языка к строгим фантазийным алхимическим словам: словам вещам, словам образам, словам умениям. Именно так и поступил Гриннел в своей книге, — именно поэтому концептуально зависимые умы находят её столь трудной, тяжелой для чтения. Она действительно сложна и тяжела, потому что она пользуется конкретными словами опуса.
Но мы можем вообще не проходить через эту дверь. Ведь если мы с самого начала смотрим сквозь эти понятия, то уже не нуждаемся в переводе. И тогда мы сможем говорить со сновидениями и о сновидениях так же, как сновидения говорят с нами. (И, говоря “сновидение”, я подразумеваю также и те сновидения, грёзы, которые проявляютя в самом нашем поведении). Именно так я понимаю призыв Юнга самостоятельно грезить миф, и для этого нам необходимо говорить образно, мечтательно — и, в то же время, существенно.
Я заговорил сейчас о существенном, со всей его многозначностью, поскольку мы подошли к решающему моменту, а таковым в алхимии является вещество. Это является переломным моментом и для нашей практики также — сделать душу существенной для пациента, трансформировать его или ее чувство того, что является существенным.
Следуя Юнгу, Холт продемонстрировал, что алхимия, по своей сути, является теорией искупления физического и материального. И если это так, то этот искупительный процесс также должен быть представлен и в нашей речи, в которой отсутствие материального столь очевидно и непосредственно, что она остаётся бессознательной даже тогда, когда мы держим речь. Мы едва ли можем ожидать от терапии, которая настолько зависит от речи, что она сможет хоть как-то повлиять на это тяжелое проклятие западного сознания, наши муки по поводу материального, если тот инструмент, которым мы пользуемся, наша речь, не занимался этим проклятье. Наша речь сама способна искупить материальное, если, с одной стороны, она де-буквализирует (де-субстантивирует) наши понятия, различая слова и вещи, и если, с другой стороны, она ре-материализирует их, вернёт нашим понятиям тело, смысл и вес. Мы уже непреднамеренно заняты этим, когда называем “материалом” то, что нам приносят пациенты, когда ищем “почву” для их жалоб и когда вообще пытаемся найти “толк” во всём этом.
Вернитесь в алхимию. Её красота — это её вещественный язык, который нельзя понять буквально. Я знаю, что не состою из серы и соли, что я не погребён в конском навозе, что я не гнию, что не становлюсь белым, зелёным или жёлтым, окруженным кусающими хвост крылатыми змеями. И, в то же время, всё именно так и есть! Я не могу понимать эти слова буквально, даже если эти точны и описательно достоверны. И даже если эти слова конкретны, материальны и точны, то будет очевидной ошибкой понимать их буквально. Алхимия предлагает нам язык предметов, который, тем не менее, не может быть понят предметно, она даёт нам конкретные определения, которые, в то же время, не буквальны.
Таков её терапевтический эффект— она навязывает нам метафору. Нас уносит языком в это как-будто-бы, в одновременную с проговариванием слов материализацию психического и психизацию материального.
Алхимические тексты чудовищно загадочны. Они переполнены запутанными слоями отсылок и аналогий. Они кажутся умышленно скрытными, предположительно скрывающими свои секреты от повседневного ума и догматических авторитетов. Но за их обскурантизмом скрывается также и некое более глубокое, психологическое стремление.
Мудрецы не давали ничему названий, и ничего не сравнивали, кроме тех ситуаций, когда наличествовало что-то, что требовало наблюдения и размышлений… Они не давали примеров и описаний, кроме как в тех ситуациях, когда хотели указать с их помощью на их скрытую суть. Они не предлагали примеров и описаний просто так, ради развлечения.
Язык сам по себе обладает психологическим эффектом.
Человеческий язык должен тужиться ухватить измерение значения (“скрытую суть”), которая передаётся знаками. Именно по этой причине тексты Парацельса столь сложны для понимания. Их фантастический словарь не предназначен для того, чтобы выделять отдельные, сингулярные характеристики явления, но, напротив, он стремится раскрыть как можно больше глубин значения — предполагается, что в воображении эти слова будут резонировать множеством значений.
И, тем не менее, концептуальный язык не является явно метафоричным. Он слишком современен, чтобы быть прозрачным; и мы живём прямо посреди него. Его миф всецело связан с нами, и потому он лишён какой-либо метафоричности. Сегодня я знаю, хотя и не вижу, что я действительно не состою из эго и самости, чувствующей функции и влечения к власти, комплекса кастрации и депрессивной позиции, но всё это мне всё равно кажется буквально реальным, несмотря на опыт, когда использование этих слов несёт на себе печать навязчивой бесполезности. Номинализм научил нас не верить словам (что в имени?), ведь это просто “слова”, инструменты — любые другие тоже бы подошли; они лишены существа.
Но, несмотря на номинализм, наш психологический язык стал для нас буквально реальным, поскольку психика испытывает нужду в демонизации и персонификации, что находит своё отражение в языке в виде необходимости овеществления. И язык являются частью этой оживляющей деятельности (как, например, и та ономатопоэтическая речь, с которой предположительно “начался” сам язык). Если же мой язык не удовлетворяет эту потребность в овеществлении, то психика всё равно будет этим заниматься, но уже так, как ей этого заблагорассудится — она сама будет физически или метафизически овеществлять используемые мною понятия.
Мне следует подчеркнуть, что я не предлагаю отказаться от наших концепций и вернуться к архаическим неологизмам алхимии как к некоему новому эсперанто нашей практики и нашего взаимодействия друг с другом. Это означало бы слишком буквальное понимание алхимии. Я не подразумеваю, что с этого момента нам стоит начать говорить алхимически, я предлагаю говорить как алхимики, как будто бы мы говорим алхимически. И тогда мы сможем говорить алхимией, даже какими-то её древними и безумными понятиями, поскольку в таком случае мы не будем пользоваться ими как буквальными замещениями наших концепций, как неким новым набором очередных категорий. Нам нужен не буквальный возврат к алхимии, но возрождение алхимического режима воображения. Ведь именно в нём мы и сможем вернуть вес нашим словам, что, в конечном итоге, и является нашей целью — восстановление имагинативной материи, а не буквальной алхимии.
Ранее я говорил о том, что односторонность невроза поддерживается нашим психологическим языком, его концептуальным номинализмом. Эта односторонность, это общее определение невроза, сегодня с каждым днём проступает ещё более отчетливо. Сегодня её можно распознать как указывающую на жадную суть наших средств осмысления, наших концепций, которые по-своему кроят и организуют нашу психику. Наши концепции продолжают удерживать в тисках различные конкретные и яркие образы, абстрагируя (буквально “изымая”) их материю. Мы более не видим глиняных погребальных урн или же железных печей, но только “Великую Мать”; мы более не видим моря за пристанью, трубы, забитые грязью, или же тёмный непроходимый лес, но только “Бессознательное”.
Как мы можем верить в то, что мы делаем, если те слова, которыми мы пользуемся, лишены собственного веса? И тут я снова присоединяюсь к Холту и Гриннелу, которые считали веру основой всего психологического и алхимического опуса. Я же нахожу эту веру в тех словах, что выражают, осуществляют и являются этим начинанием. Повторимся: в абстрактных концепциях, психологическом номинализме, который ничего не значит и ничего не стоит, вынужденно нарастает всё большая фиксированность, скованность и неподвижность, из-за чего они становятся объектами и идолами веры вместо того, чтобы быть её живыми носителями. Когда мы обсуждаем психологию, мы не можем удержаться от того, чтобы не становиться слишком метафизичными, потому что наши слова лишились остатков физического воображения.
Согласно Юнгу невроз — это расщепление, а терапия — это объединение.
И если наш концептуальный язык расщеплён ввиду абстрагирования сути образа и односторонней речи, тогда это “как будто бы”, эта метафора уже сама по себе является психотерапией, поскольку она не смешивает двух или более различных уровней: будь они словами и вещами, или же событиями и значениями, коннотациями и денотатами, — всё это метафора и объединяет в слове. Подобно тому, как coniunctio является образной метафорой, так и метафоры являются проговариваемыми coniunctio.
И, что важно, наш односторонний язык отделяет нематериальное психическое от лишенной души материи. Наши концепции настолько предопределили значения этих слов, что мы забыли о том, что материя — это концепция, представление “в уме”, психическая фантазия, и что душа — это наш опыт жизни посреди вещей и тел “в этом мире”.
Чем старше становился Юнг, тем больше его интересовало это расщепление души и материи, тем больше он стремился объединить их всё более новыми определениями: психоидное, синхронистичность, unus mundus. Но, даже будучи определенными как объединяющие обе стороны, будучи двусмысленно и символически представленными, эти слова (в отличие, например, от алхимических: “мягкий камень”, “гермафродит”, “королевская свадьба в индийском море”) всё равно лишь укрепляют это расщепление, столь присущее одностороннему языку. Ведь они также остаются концепциями, лишенными тела и образа. И потому психология остаётся невротичной, так как мы описываем лишь номиналистическую психику, лишенную материи (и потому фантазии и образы “в действительности” несущественны, находятся “лишь” в голове или же должны быть магически связаны с материей посредством синхронистичности), и обездушенную материю, которая ищет своего искупления в телесной терапии, гедонизме потребления и марксизме.
И, в завершении, нам следует поговорить, подобно Фрейду и Юнгу, о культуральном измерении невроза и его терапии. Наш невроз и наша культура — неразделимы. После лицемерия политики и её обманов, её жаргона и языка Пентагона, после социологического и экономического сциентизма, медийного управления речью и всех тех злоупотреблений (даже тех, что были совершены во имя самого языка Лаканом, Хайдеггером и теорией коммуникации), которые обескровили слова и привели в наше время новый симптом, детскую немоту, а также лишили психологию веры в силу собственных слов, из-за чего психотерапии пришлось обратиться к крикам и жестам, — после всего этого я страстно настаиваю на восстановлении языка через возвращение речи к её сути. Я вспоминаю слова Конфуция, который настаивал на том, что исцеление культуры начинается с исправления её языка. Алхимия предлагает такое исправление.
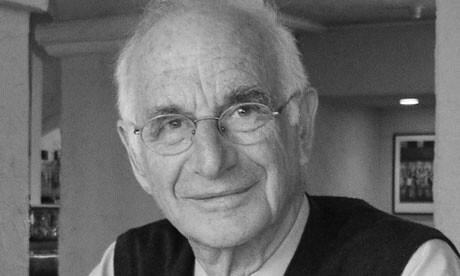
Джеймс Хиллман
- Американский психолог
- Основоположник архетипической психологии
+7 495 175 3110
info@3worlds.ru
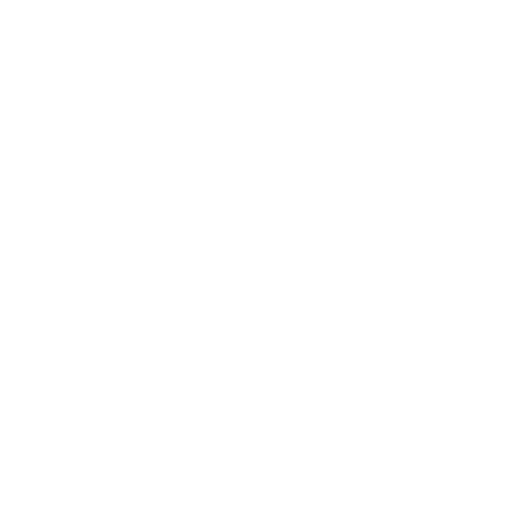



авторизуйтесь